Почтовые страницы войны 1812 г.
(Опубликовано:Заремский, В. К. Белорусские почтовые станции войны 1812 года /В. К. Заремский //Могилёвский поисковый вестник. — Вып. 7. — 2012. — С. 67-74)
Война 1812 года не явилась случайным явлением ни для французов, ни для россиян. О том, что войны не избежать было известно задолго до её начала. Белорусские губернии имели стратегическое значение для Российской империи на западном направлении. Здесь всегда находилась крупная группировка российских войск. Для её обеспечения нужна была и почта. В мирное время эту роль прекрасно выполняла гражданская почта, но в период военных действий нужна была особая почта — военно-полевая почта. Военно-полевая почта учреждена в России Петром I в 1716 г. [13; Т. 2, 3006]. Эта почта действовала в Северную войну и на Беларуси (с середины 18 в. была она и в Речи Посполитой). В 1799 г. (в мирное время!) учреждён полевой почтамт и его штат. В мае 1812 г. полевым почтмейстером (опять-таки, ещё до начала боевых действий) назначили уроженца Беларуси Ф. О. Доливо-Добровольский, который имел чин “военного советника”. В каждой армии работал свой “армейский” почтмейстер. В 3-й армии им был надворный советник Куличевский, а в корпусе Витгенштейна — коллежский секретарь Малов.
Фрол Осипович Доливо-Добровольский происходил из дворян Мстиславльского уезда. Родился в Могилёве 27 мая 1778 г., но в службу вступил копиистом канцелярии оршанского городничего в 1790 г. С 1792 г. он — канцелярист Полоцкой межевой конторы, с 19 октября 1792 г. — канцелярист Могилёвской казённой палаты, письмоводитель Могилёвской городнической канцелярии (с 1.03.1797 г.), Могилёвский полицмейстер с 3.11.1800 по 12.08.1801 г.г. и с 15.08.1806 по 22.05.1808 г.г., Могилёвский городничий с 12.08.1801 по 15.08.1806 г.г. За борьбу против эпидемии в Саратовской губернии под руководством сенатора Козодавлева награждён орденом Св. Владимира 4-й ст. (15.01.1808 г.). Переведён в МВД (22.05.1808 г.). За устройство карантинов на Хивинской, Персидской и Бухарской границах награждён 1000 десятин земли (1809 г.). 8 марта 1812 г. назначен инспектором почт при Почтовом департаменте. С чином военного советника с 24 мая по 29 сентября 1812 г. занимал должность Полевого инспектора почт при армиях. Состоял при особе императора Александра I . С 29.09.1812 г. — в Московском ополчении. За подвиги на поле боя утверждён в чине полковника и до 1820 г. служил во 2-ом егерском полку, в т.ч. и в Могилёве, с 1820 г. — в Санкт-Петербурге.
Коллежский регистратор с 31 декабря 1797 года. Через месяц (!), вне очереди, Фрол Осипович был произведён в губернские секретари (20.01.1798 г.). Действительный тайный советник. Награждён орденами Св. Владимира 4-й и 3-й ст. (1813 г.), прусским «Pourlemerite» (1813 г. ), золотой шпагой «За храбрость» (1814 г.). С 26.08.1821 г. ему пожалована аренда на 12 лет Мозырского староства. Владелец фольварка Флоробер в Климовичском уезде, доходных домов в Санкт-Петербурге и там же дачи на Каменном острове, которую часто снимал А. С. Пушкин. В почтовом ведомстве служили двое из его сыновей Иван-Матвей Фролович и Иван-Осип Фролович Доливо-Добровольские. Его внуком является выдающийся учёный-электротехник М. О. Доливо-Добровольский.

Рис. 1. Почтовая марка СССР из серии «Учёные нашей Родины» посвящённая 100-летию со дня рождения М. О. Доливо-Добровольского.
На оккупированной армией Наполеона белорусской территории действовала французская полевая почта. В разных регионах Беларуси оккупанты устраивали её по-разному. На северо-западе и западе продолжали работать местные почтовые работники, прежде всего на почтовых станциях. Содержания почт в этом регионе в исправности и порядке требовал от местной администрации и Наполеон. В Минске французами был устроен центральный почтамт, где взимались деньги от курьеров и за эстафеты. Среди западно-белорусских почтовых работников многие приветствовали французскую армию и искренне помогали ей, в надежде на воссоздание Речи Посполитой. В восточных районах большая часть почтовиков выполнила императорский указ, и покинула оккупированную территорию, что заставило французов выделить свой персонал для организации почтовой связи. Местные почтальоны были заменены драгунами, а почтовые чиновники — лейб-жандармами. Наполеон в полевой почте видел и средство транспортировки военных грузов — снарядов, пороха и т. д. Так как французские войска разорили все населённые пункты на своём пути, то от Вильны до Москвы, для обеспечения тыла и сообщений армии через каждые двадцать — тридцать вёрст были устроены укрёплённые блокгаузы. Были они квадратной формы, огороживались рвом и палисадами, с деревянными бараками, в которых располагались пехотные отряды, конвоировавшие курьеров. Блокгаузы или этапы, как их называли в наполеоновской армии, сыграли двойную роль: являлись средством обеспечивающим связь, а при отступлении — пунктами снабжения и отдыха войск. «Эти укрепленные этапы были созданы предусмотрительностью великого Наполеона, — писал участник похода Тирион, — и трудно себе представить, что было бы при отступлении, если бы не было этих этапов». Помогли они и при организации бесперебойной связи между армией и Францией. Наоборот, где их не было — не было и хорошей связи. За устройство и организацию работы блокгаузов отвечал генерал Гогендорп.

Рис. 2: Почтовый выпуск Беларуси к 125-летию Всемирного почтового союза, на одной из марок которого изображено здание Минской почтовой станции построенной по образцовому проекту
Почтовые службы в Российской империи готовиться к войне начали задолго до её начала. В сентябре 1811 г. почтовое ведомство проверило состояние дел во всех белорусских губерниях. Донесения губернаторов и земских исправников говорили, что все станции «исправны» и «благополучны». Но Император Александр I по пути в Вильну в апреле 1812 г. проехал по ряду трактов и «выразил крайнее неудовольствие увиденным беспорядком в почтовом устройстве, особенно в Витебской губернии». Он возложил ответственность за наведение порядка на почтовых трактах лично на губернаторов. От помещиков потребовал предоставить добавочных лошадей на почтовые станции «уравнительным нарядом», на срок «который дворяне сами определят: на две недели, на один месяц, два месяца и так далее». На каждые три лошади помещики обязаны были выделить одного кучера. Всего в Витебской губернии требовалось выставить 699 лошадей — на семь станций по 24, на восемь по 18, на 29 по 12, на две по 15 и на одну — девять. Воспользоваться этими лошадьми могли только фельдъегеря и курьеры. Дворянство не хотело тратить свои средства на эти цели. И не только по материальным причинам. Зная события войны 1812 г. на белорусской земле, можно сделать вывод, что, частично, оно не делало это и по политическим мотивам: многие шляхтичи ждали Наполеона как своего освободителя. Через месяц Витебский губернатор доложил императору, что дворяне неохотно выполняют указ: «записаны плохие лошади или уже забранные в армию». Из сохранившихся документов не видно, чтобы до начала боевых действий этот вопрос был решён.
Такое отношение дворян было известно правительству. Tолько этим можно объяснить предоставление Сенатом в 1811 г. крестьянам (в том числе и крепостным) права быть содержателями почтовых станций в белорусских губерниях. До этого почтсодержателями могли работать только дворяне и мещане. Крестьян-почтсодержателей назначали без залога, но с поручителями: за казённых крестьян и ямщиков поручалось «их общество», за крепостных — их помещики.
Необходимо подчеркнуть и тот факт, что почтовые дороги активно использовались воюющими сторонами в своих целях.

Рис. 3: «Нападение на почту». Картина неизвестного художника.
В годы войны белорусские почтовые работники совершили немало подвигов. Ещё в 1807 г., когда война приблизилась к границам Российской империи вплотную, некоторые из них добровольно ушли в армию. Так в июле 1807 г. добровольцем в батальон стрелков Могилёвской губернии вступил копысский почтовый экспедитор Ф. О. Коньза. В 1812 г. наиболее известный подвиг совершил бабиновичский почтовый экспедитор коллежский регистратор Шостаков. Он потерял всё своё имущество, но спас документы и архив свой экспедиции. Затем вступил в партизанский отряд подполковника Дибича 1-ого и, как хорошо знающий местность, оказал много услуг партизанам и постоянно отличался в схватках с противником. Его коллега титулярный советник Ботвинко, будучи захваченным неприятелем, увёл отряд французских войск от дороги на Украину. За этот подвиг он получил «Высочайшее благоволение». При отступлении российских войск почтовики получили приказ уходить с ними. Полоцкий почтмейстер Д. И. Завелейский «бросил всё своё имущество в Полоцке, но в дер. Козявкино нашёл разбитую почту и арестовал 17 виновных на виду у французов». «Значительную денежную сумму» спас в 1812 г. оршанский почтмейстер А. И. Новицкий. Ряд почтовых работников выехали с семьями из районов оккупации. Например, так поступили в Могилёвской ГПК чиновник коллежский регистратор Н. С. Шальчин и канцелярист Г. В. Бобрив. Первому в награду выплатили двойные прогоны и годовое жалование, а второму — прогоны и полугодовое жалование, как и предполагалось императорским указом. Были и другие подобные примеры.

Рис.4: Почтовая марка СССР выпущенная к 150-летию изобретения электромагнитного телеграфа П. Л. Шиллингом фон Канштадтом.
Интересным является и факт участия в боевых действиях 1812 г. на территории Беларуси П. Л. Шиллинга фон Канштадта, будущего выдающегося изобретателя в области телеграфии. Будучи чиновником Министерства иностранных дел, он добровольно вступил в армию и активно участвовал в боях. В звании штабс-ротмистра Сумского гусарского полка сражался у деревни Какувячино и под Витебском. За подвиги на поле боя удостоен двух орденов и почётнейшей награды — сабли с надписью «За храбрость». После возвращения русских войск из зарничного похода, служил в Могилёве в штабе 1-ой русской армии, где и уволился со службы. Важно и то, что в ходе войны он не прекращал своих научных исследований и изобрёл электрические мины, которые подрывались при помощи проводов. Впоследствии, при разработке телеграфных линий, он активно применял и эти, изобретённые им в 1812 г., провода.
Война 1812 г. разорила белорусские губернии. Почтовое имущество или погибло, или было разграблено. Примером таких утрат служит опись разграбленного имущества Горецкой ПС. Работу почтовых трактов в наших землях восстановили к 7 декабря 1812 г. Руководил работами по восстановлению чиновник Главного почтового управления статский советник В. Мельников. Фактически же был восстановлен лишь ход почт для нужд действующей армии, до полного восстановления было очень далеко. Чтобы вдохнуть жизнь в старые тракты их содержание, в виде повинности, возложили на помещиков белорусских и прибалтийских губерний. Работами по восстановлению трактов в Могилёвской губернии руководил могилёвский дворянин фон Лескен. В Витебской и Псковской — лифляндский дворянин фон Блюмен. Оба в мае 1818 г. получили по 300 руб. прогонных денег, что говорит об их частых и больших разъездах и масштабности работ. Белорусские помещики свою обязанность «содержать почты натурой», т. е. на свой счёт и своими лошадьми, исполняли до 1816 г.
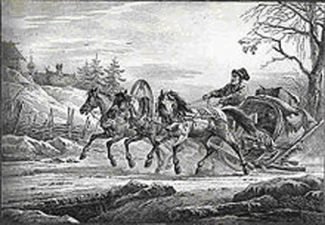
Рис. 5: «Почтовая тройка зимой». Картина худ. А. Островского
В первые послевоенные годы почтовики испытывали большие трудности: не хватало лошадей, отсутствовали постройки, походящие для станций. Расходы на одну лошадь составили от 700 до 800 рублей в год (в 178 3 г. — 33 рубля). Дворянство было не в состоянии оплачивать такие расходы. В 1813 г. по требованию Главноначальствующего над почтовым департаментом почтовые станции в белорусских губерниях разделили на четыре разряда «по важности». Отличались они друг от друга количеством лошадей на них. Лошадей поставляли дворяне — крестьянских лошадей брать было запрещено. Если дворянин не мог выделить лошадь, то платил три рубля в сутки. Для поддержания порядка на каждой станции находился дворянин из того же уезда, из которого были лошади. Распределял эту повинность — уездный маршалок.
Однако и государство с трудом справлялось с восстановительными работами. Показательна в этом случае судьба помещика Е.Корсака, почтсодержателя Лынашовской, Дубовицкой и Руднянской станций. С 1 июля 1812 г. по 1 января 1813 г. свои станции он «содержал в совершенной и самоаккуратнейшей исправности в самое то время, когда многие почтосодержатели… отказались». Из-за роста цен ему пришлось доплатить за покупку фуража 17.200 своих рублей. Эти дополнительные расходы ему не оплатили — в губернской казне их просто не было. Губернатор отослал прошение Корсака в правительство. К сожалению, в архивном деле нет сведений о том, как была удовлетворена или не удовлетворена данная просьба.
Соседняя Смоленская губерния также тяжело пострадала от войны. Но по просьбе губернатора МВД, а почтовое учреждение в то время подчинялось ему, оплатило из казны содержании ямщиков, позволило сократить численность лошадей на станциях и даже одну из них закрыть. Таких послаблений и такой помощи белорусские губернии не дождались. Впрочем, на Смоленщине в те годы сохранялась ещё ямская система. Поэтому ямщикам и помогло государство. Возможно и то, что, простив белорусскому дворянству поддержку Наполеона, всё остальное император простить не пожелал.
1812 г. стал тяжёлым испытанием для белорусских почтовых работников. Не менее трудным были и восстановительные работы. Но почта работала, и почтовые работники старались делать своё дело как можно лучше. Свидетельство тому отсутствие жалоб на них со стороны тех, кто пользовался их услугами.







